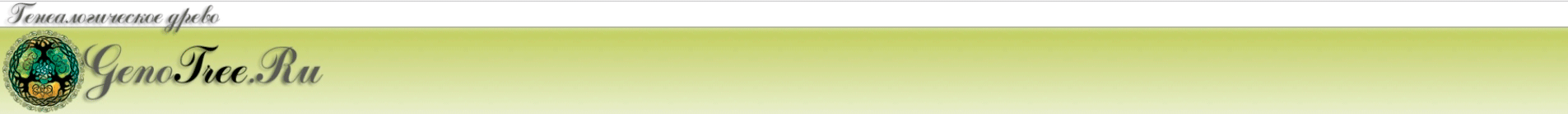1890. Немирович-Данченко В.И. Кама и Урал. (Очерки и впечатления). Александровский завод.
XXXI. Александровский завод..
Теперь здесь все идет иначе. Крестьянство с голода не мрет, хотя, разумеется, и сыто не бывает. Товарищество расходует свои деньги экономно и, как оно само выражается, «филантропией заниматься не считает нужным». Целые поколения приносят свою кровь и пот, свою жизнь и молодость, в жертву за хлеб насущный, и только за хлеб. В самом деле, как в сущности страшно это существование, где все сосредоточено на одном вопросе: умрешь с голоду или нет? Порою это разнообразится другим: заплатишь недоимку или нет? Питаясь акридами и не помышляя о диком меде, мужики только один месяц в году живут несколько иначе. Покосы, дни и ночи, проводимые на открытом воздухе, после душных заводских работ или смрадных копей — несколько ярче освещают это бедное существование, дают ему, хотя ненадолго, радужные краски, которых, в течении остальных одиннадцати месяцев в году, оно лишено совсем.
На заводь я отправился на следующий день утром. Товарищество кое-как починило завод, положило заплаты на дыры и лохмотья, оставшиеся после французского года. Оно же ввело здесь и некоторые усовершенствования. Так, еловый и сосновый уголь приготовляется в лесу рабочими, но березовый обжигается в углетомительных печах; устроенных в самом заводе. В лесу, при обыкновенном способе, из 100 частей дерева выходить 50 частей угля, а здесь из 100 — оказывается 80. Длинные кирпичные печи работают отлично. Сначала они открыты и дрова там горят, как и везде; потом, дав им разойтись, когда пламя уже велико, отверстие герметически запирают, и дерево от жару обугливается все. Завод съедает 5,000 куб. саж. дров в год. Шесть громадных здешних печей в состоянии дать до 100 куб. саж. в месяц; таким образом, одних березовых дров уходить до 1,200 саж. В доменной печи горит розовое пламя вверху, рабочие обтянуты в черную толстую кожу. Tе же картины, что и на Кизеловском заводе; те же вспотевшие люди, до измору дотолкавшиеся у этой гиены огненной; тe же, точно в чем-то размоченные и распаренные бабы… Куда ни взглянешь везде следы французского года; как ни старательно товарищество кладет свои заплаты, недавнее разорение смотрит на вас сквозь тысячи дыр. Одной доменной печи нет, она развалилась совсем, да и кровли везде содраны. Одни редкие балки торчать вверху, точно волки ободрали шкуру с падали, объели мясо и костяк торчит один, сиротливо подымая вверх голые ребра. По полу, вверху, нужно ходить с величайшей осторожностью — везде провалы; свалишься с высоты почти пяти этажей и, пожалуй, прямо в расплавленный чугун внизу угодишь… Вон рабочие, кряхтя, тащат короба с углем и сбросили его в домну; пламя вскинулось вверх, с целою массою искр. По краям приготовлена руда, с известковым камнем. Ее сталкивают внутрь, в пламя, и отворачивают лица, потому что иначе придется дышать огнем.
Какое ужасное выражение у одного рабочего из тех, что сбрасывает руду в домну… Совсем автомат; только в каменных чертах этого автомата так и закаменело выражение одной вечной, неизменной муки. Окончит он у домны — бежит к обжигательной печи, а там опять к домне. Так в чертах этого лица и читаешь и французское разорение, и кропачевский грабеж!
— Теперь, слава Богу! шепчет он (голосу давно нет). — Теперь чудесно… Теперь пятьдесят копеек в день!
А глаза и застывшая в каждом мускуле лица мука противоречить и этому «слава Богу», и этому «чудесно». Он как-то и смотрит из подлобья, точно сослепу, и видит плохо; глаза воспалены от зноя, больно им, слеза их то и дело точить. Тело — скелет, обтянутый какою-то синею, точно гнилою кожей. А ведь молод, всего тридцать лет человеку… Губы синие-синие тоже, свело их. Грудь совсем ввалилась, ямой какою-то стала.
— Отчего это у всех рабочих здесь бороды такие жидкие, да чахлые? спросил я и сам сконфузился. «Что за глупый вопрос», думаю.
— Вы это кстати. Знаете ли, что у кричных рабочих, например, в Кыну, борода не растет: вообще у тех, которые при переделке чугуна в железо находятся—ни усы, ни борода не распушатся, Так, редкий волосок пробьется. Жара ведь неимоверная!
Внизу мы опять любовались на золотые звезды, которые раскидывал кругом чугун.
— Вы, однако, не очень близко наслаждайтесь, предупредили меня.
— А что?
— Когда из домны течет чугун, он, встретив воду, разбрасывает металлические брызги такой силы, что они иногда пробивают высокую кровлю здания. Это тоже опасно. У нас есть такие, которые ослепли от этого.
Спектакль становился опасным и, разумеется, только выигрывал от этого. Здесь ежедневно выплавляют чугуна от 350 до 500 пуд., причем на 100 пуд. руды получается до 40% металла. Я его назвал как-то железом, мой спутник засмеялся и поправил меня:
— Это чугун, его еще надобно сварить в железо. Вы не специалист и не мудрено вам ошибиться; а то из Петербурга к нам наезжают мундирные металлурги, так вы бы на них посмотрели. Напыжится, важности на себя напустить, страшно подойти к нему даже, а ведь железа от чугуна отличить не может… Какое железо от чугуна! Мы выпустили сплав из домны… Он вдруг и спрашивает; — «сколько вы бросили чугуна в домну, чтобы получить это железо?» —«Мы, говорим, руду бросаем!» Он снисходительно улыбнулся и, знаете, этак с высокомерием: —«Что-ж, вы хотите меня уверить, что прямо из руды железо плавите?» — «Да это не железо, а чугун», — «Чугун?—покраснел сам, — «Скажите, какой красивый, говорить… Горячий?». А чего горячий когда от него адом пышет. Мы уж смеялись, смеялись потом… Хвост поджал и таким ласковым, да мяконьким стал! Потом, читаем в газетах, в технических обществах доклады делал! Еще какие бывали! Один, тоже чиновник, специалист по минералогии, являлся сюда; можете себе представить, что ему разноцветные, красивые шлаки выдавали за малахит и яшму. Он верил, по простоте души!.. Совсем агнцы!
При заводе теперь находится громадная механическая мастерская. Всякого рода аппараты могут приготовляться здесь; между прочим, еще недавно отсюда вышел пароход «Гарибальди» для р. Камы. Ни одного настоящего механика нет. Все строят простые рабочие, присмотревшиеся к делу у немца в Пожве и теперь орудующие здесь за какие-нибудь 30 руб. в месяц. Умные лица этих талантливых людей производят чрезвычайно приятное впечатление.
— Мы сначала чертить научились, а потом и сами искушаться стали.
И искушаются прекрасно, нужно им отдать справедливость.
— Они до чего насобачились, рассказывают нам: — ученый механик упрется в новый чертеж лбом и ничего понять не может, что за машина? Сейчас — «Иван!»
Является Иван. — «Пособи-ка, что это за штука?» Посмотрит-посмотрит и разъяснит. С лету понимают. Их у нас много таких-то!
Подобные явления, такие Иваны, на Руси не редки. Нет талантливее и в то же время нет несчастнее этих людей. Никакого исхода, никакого простора для применения своих богатых сил и способностей. Разве не такие же Иваны попадались мне в Соловках, на Валааме, в Святых горах? Там, только под монашескою рясою, они получили возможность работать. И какие дивные вещи стали создавать они! «Нет людей, нет людей!» У нас это принятый крик. — Нет людей! Разумеется нет, если вы их станете по Большой Морской, да по Невскому искать. Они есть и их много; но они теперь не пойдут к вам, да и сами вы их не найдете, не так у вас мозги построены. Понадобится, явятся иные порядки — и такие Иваны сотнями придут к нам на помощь. Эти «Иваны» не в одном лишь образе рабочего представляются мне, это общий тип деловых и серьезных людей. Только теперь они отплевываются от вас, не хотят вместе с вами делать ничего; слишком хорошо присмотрелись они к питерскому официальному миру. Люди с развитым обонянием бегут от чиновника, в каком бы он высоком чине не находился.
При мне Александровский завод еще только восстановлялся и на первых порах не очень шибко. Управляющей всем этим участком, Грасгоф, рассчитывал тогда именно пустить его в ход как следует, когда железная дорога (горнозаводская) приблизит кушвинский район к этому и даст возможность вдоволь получать оттуда железо для Александровских механических мастерских.
— Тогда мы станем и железо колбасить на рельсы, пароходы строить в большом виде, и машины всякие выпускать сотнями. А до тех пор не из чего.
Вообще рабочие, занимающееся в механической мастерской, являются уже гораздо более развитыми, чем остальные. Они очень много читают; и не одну беллетристику, газеты для них делаются потребностью. Здесь, например в механической мастерской целые спектакли ставят, и часто. Недавно играли «Женитьбу» Гоголя, «Доходное место» Островского, «К мировому» В. Александрова. Вообще же в большом ходу здесь репертуар Островского. Нет такой пьесы его, которая бы здесь не была поставлена. По общим отзывам, играют отчетливо и толково.
Зрителями являются администрация и рабочие со всего завода, Бывает человек по полутораста. Я подобный пример видел только в холмогорских селах; там тоже крестьяне ставят спектакли и также очень недурно.
— У нас театр сталь очень прививаться.
— Одного не могу понять, как те же рабочие, которых я видел на копях, могут играть на сцене?
— Те совсем другие. У нас из механической. Вообще между рудокопами и заводскими — разница большая. Вы посмотрите-ка, как у нас рабочие читают. А в копях и грамотных-то не найдешь.
Потом мне самому пришлось встретить не раз между заводскими мастеровыми людей в высшей степени образованных и живущих по-человечески. Один, например, о Герберте Спенсере заговорил, да так, что я, как щедринский Фединька Кротков, только рот разинул. Другой спросил меня по поводу новой книги Смайльса. Большинство таких вышло из бывших строгановских крестьян. Вот, например, история одного из них. Отец — бедняк-мастеровой и крепостной притом. Мальчик отличался удивительными способностями и рано понял, что на семью рассчитывать нечего. Он отлично учился в приходской школе. Это заметил Петр Сосипатрович Шарин, ученик Вейсбаха в Фрейбурге. Шарин считался на Урале звездою первой величины. Он был прекрасный ученый, но о гуманности и понятия не имел, потому что в те жестокие времена о ней еще и слыхано не было. Граф Строганов тогда многих воспитывал на свой счет, сотни — в уездных училищах, десятки — в гимназиях и университетах, и все из семей, служивших у него. Больше же всего — в технических школах, в технологическом институте. Шарин и мальчика Воеводина, о котором я рассказываю, отправил в пермское уездное училище на счет Строганова; но, как сын простого рабочего, он дальше идти не мог и, окончив школу первым, должен быль вернуться в Билимбаевский завод, помогать учителю местной школы. Прожил он три года, продолжая работать в местной библиотеке. В Билимбаевской школе преподавать было трудно по недостатку учебных пособий. Старший педагог был отъявленный пьяница и невежда и только мешал делу. Поэтому ребятишек приходилось учить читать по таким книгам, как, например, «Инструкция уральского горнозаводского правления», «Горный журнал» и т. д. В качестве помощника, Воеводин не мог сделать ничего и совсем охладел к делу. Свободного времени у него оказалось много, он и напустился на чтение; все подряд глотал: и Лессинга, и Дюма, и Гегеля, и Поль де-Кока. Сознание безвыходности своего положения росло; оставаясь в разряде мастеровых, Воеводин не мог пойти далее, а желание было пламенное. Пока еще найдутся средства к этому, он начал готовиться сам; выписал самоучителей по разным языкам, засел за работу, проглотил гимназические учебники очень быстро и, год спустя, был уже готовь к экзамену в пятый класс. Теперь нужно было выйти из мастеровых и взять увольнительное свидетельство от общества. Собрался сход. «Лучшие люди относились ко мне недружелюбно, с завистью, рассказывал он, — и на сходе это сейчас же выразилось насмешками».
— Ладно. Посиди у нас, пожуй нашего хлеба! Ровно бы тебе еще рано в чиновники.
— У тебя и родители-то на наших глазах росли, ничем не лучше нас были. Словно бы и неладно нам под тобою быть. Поучить бы тебя следовало, по нашему, по мастеровскому обычаю. Дурь из тебя выгнать.
— Чем наши дети хуже? Почему они оставаться должны, а этот уйдет?
— Экая распута пошла! Все от дела линяют.
Волостной писарь был в Билимбае — поэт. Стихи сочинял a lа Некрасов, писал корреспонденции в газеты и пил мертвую. Он особенно против Воеводина восстал. И несчастному юноше решительно отказали. Пришлось оставаться мастеровым. Продолжаю уже рассказом самого Воеводина, испытавшего эту горькую участь.
— Тут мне удалось сойтись с человеком, о котором и до сих пор я не могу вспомнить без слез. Был он просто-напросто этапным офицером, арестантов конвоировал. Светлая душа, добрая! Молодежь на заводе, даже и образованная, гульбою, да пьянством занималась—на крепостной почве выросла, сама под кнутом была. Обыкновенно на заводе собирались к Баранкову (так звали этапного офицера). Сначала музыка шла, он — на скрипке, другие — на иных инструментах; а после музыки за водку, да как—в лоск! Опротивела ему служба, вечный лязг цепей, бритые головы, унижение человека, отмеченного бубновым тузом, да серым халатом,— уехали мы в Екатеринбург. Там, под влиянием чтения и работы, совсем переродились. Случалось только четыре часа в сутки спать, все остальное время занимались. Сначала были средства у Баранкова, потом у меня нашлись уроки. Прислуги не полагалось. Бывало я читаю вслух, а Баранков сочень сеет, либо мясо варить. Потом, чтобы не отвлекаться от дела, стали мы ходить. есть в обжорный ряд. Печенкою питались. А время-то было, сами знаете, какое — шестьдесят третий год; вся гадь, что до тех пор была, в щели попряталась, выползла и откровенно засмердела. Мы обратили на себя внимание. Как-де читают люди? Как простой мастеровой смеет за такое занятие браться — детей учить? Кажется, жили мы смирно, никого не трогали, а стряслась беда над нами великая — донос. Доносу веру дали. Баранков и теперь далече; а меня по этапу, в кандалах, как простого мастерового, в завод. Заклевали меня тогда дома. — «Что, ученый, выходил? Больно рано учение кончил; ишь ты какое ему начальство отличие сделало, бубенцы по ручкам, да ножкам привесило!» Проходу не было. Тоска меня одолела страшная. Деваться некуда. Не по силам наперекор своим идти; все же связь свою с ними чувствуешь; хочется им принести хоть чуточку пользы. Вы не поверите, как в иную пору к своим тянет; плюнул бы на все, да в сермяжное царство и ушел. В университет дороги не стало, бросил я книжки; в конторские холуи идти было противно, ну и пошел на завод простым рабочим. Мальчишкой у кричной печи жарился и теперь к той же печи попал. Дело мое было ворочать болванку в огне; бывало всего тебя жжет, брызжет на тебя огнем, иной раз расплавленным шлаком прыснет, а ты себя нарочно моришь, чтобы всю гордыню старую совлечь, чтобы и не думать на что работал, к чему готовился. Очень тоска одолевала; только работою я и заморил тоску. Чугун в огне ворочаешь— пот с тебя льет; так, весь день до вечера; а вечером бросишься на лавку, да до утра и проспишь как убитый, а чуть свет опять на работу. Так я себя измором, донял, что раз в праздничный день взялся за книгу и ничего понять не могу, точно я не читывал никогда. С этого времени меня рабочее наши полюбили. Попал я в кричные мастера, стал по полтиннику в день получать, а потом меня надзирателем сделали. Теперь я сам себе хозяин, свое маленькое дело завел.
И таких на Урале масса; это не исключение.
У ворот завода громадный кусок чугуна, сплавившийся в уродливую, но плотную массу.
— Это у нас козел!
— Как козел?
— Так называем! Из-за него, из-за козла, много несчастья бывает — весь завод снести может. У плохих техников и строителей домен образуются, во время плавки, загустевшие массы чугуна, как желвак садятся в домну у самого выхода из нее, или в самом выходе. Ну тогда — руды выпускать нельзя, нужно дать домне остыть, выломать часть ее у входа и вытащить желваки… Вот эти-то желваки мы и зовем козлами.
— У домны брюхо толстое, пищеварение отличное; уголь, руду и камни варить, а иногда засорить желудок, и стоить машина! Нужно ее лечить; а пока лечат — месяц рабочий без дела!.. Тут осторожность большая нужна…
Я уже говорил о положении рабочих в мокрых копях и рудниках; на заводах оно несколько лучше, но далеко от того, чтобы признать его хорошим. Как труд этот отзывается на здоровье работников, видно из того, что в 1874 году, например: на 23 вдовца приходилась здесь 141 вдова — это в одном Александровском заводе. В том же году, на 60 родившихся мальчиков пришлось 64 умерших мужчин, а в 1873 на 64 родившихся — 67 умерших. У женщин это отношение между умершими и родившимися в пользу последних.
Всего на заводе 1,098 мужчин и 1,236 женщин. Больше всего смертности в разгаре работы. Взрослые мрут — от чахотки, дети — от горячки и худой пищи. От старости — очень мало, потому что здесь до нее редко доживают.